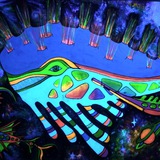Продолжая тему про когнитивное искажение, замешанное на том, что события, вокруг которых больша хайпа, интуитивно кажутся нам более распространенными. “Если много говорят о преступлениях - значит уровень преступности растет” (на самом деле может быть как раз наоборот). Называется “эвристика доступности”.
Вот хороший пример - рейтинг стран наиболее опасных для женщин. Там Пакистан, Индия, Сомали, Конго и прочий Йемен. Удивление начинается, когда видишь, что замыкают рейтинг США, расположенные на десятом месте. От Нигерии до США один шаг… чтоа? Смотрим внимательно, рейтинг составлялся по нескольким показателям: здравоохранение, дискриминация, сексуальное насилие, несексуальное насилие, традиции (вроде женского обрезания) и торговля людьми. США попали в рейтинг только из-за двух номинаций посвященных насилию.
Но самое интересное, как этот рейтинг делали: оказывается составители “опросили 548 экспертов по женским вопросам: госслужащих, журналистов, сотрудников фондов, ученых и общественных комментаторов (это блогеров, что ли?)”. Зачем нужна скучная работа со статистикой, когда можно просто разослать опросник 548 чувакам и слепить таблицу по мотивам? Но почему эти “эксперты” связали Америку с насилием? Да просто потому, что после кампании #metoo у них отложилась ассоциация “США - насилие над женщинами”. Даром, что такие кампании в США как раз признак того, что насилие там давно перестало считаться нормой, а вот во всех остальных странах рейтинга оно обыденно и рутинно. В итоге: абсурдная ситуация, когда наделенных всеми правами американок приравняли к бесправным жительницам Йемена и Сомали.
Вот хороший пример - рейтинг стран наиболее опасных для женщин. Там Пакистан, Индия, Сомали, Конго и прочий Йемен. Удивление начинается, когда видишь, что замыкают рейтинг США, расположенные на десятом месте. От Нигерии до США один шаг… чтоа? Смотрим внимательно, рейтинг составлялся по нескольким показателям: здравоохранение, дискриминация, сексуальное насилие, несексуальное насилие, традиции (вроде женского обрезания) и торговля людьми. США попали в рейтинг только из-за двух номинаций посвященных насилию.
Но самое интересное, как этот рейтинг делали: оказывается составители “опросили 548 экспертов по женским вопросам: госслужащих, журналистов, сотрудников фондов, ученых и общественных комментаторов (это блогеров, что ли?)”. Зачем нужна скучная работа со статистикой, когда можно просто разослать опросник 548 чувакам и слепить таблицу по мотивам? Но почему эти “эксперты” связали Америку с насилием? Да просто потому, что после кампании #metoo у них отложилась ассоциация “США - насилие над женщинами”. Даром, что такие кампании в США как раз признак того, что насилие там давно перестало считаться нормой, а вот во всех остальных странах рейтинга оно обыденно и рутинно. В итоге: абсурдная ситуация, когда наделенных всеми правами американок приравняли к бесправным жительницам Йемена и Сомали.
Недавно вспоминали историю двухлетней давности: псковских подростков Катю и Дениса, которые сбежали из дома из-за родительского насилия, а затем (предположительно) застрелились в процессе штурма мудаков-силовиков. Я написал, что хорошо бы экранизировать - будет The end of the fucking world по-русски.
Оказывается сейчас именно на такую экранизацию собирает деньги режиссер Александр Хант (“Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”). Не буквальная экранизация событий, а “по мотивам” - про русскую безысходность.
Судя по интервью с режиссером, кино должно получиться жесткое и острое. Поэтому и нужен фандрайз - ни спонсоры, ни тем более государство на такое денег не дадут.
Оказывается сейчас именно на такую экранизацию собирает деньги режиссер Александр Хант (“Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”). Не буквальная экранизация событий, а “по мотивам” - про русскую безысходность.
Судя по интервью с режиссером, кино должно получиться жесткое и острое. Поэтому и нужен фандрайз - ни спонсоры, ни тем более государство на такое денег не дадут.
Planeta.ru
«Межсезонье». Фильм Александра Ханта | Planeta
Приключенческая подростковая драма от режиссера фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Продолжаю серию материалов про криптовалюту дэш. В этот раз рассказываю о том, зачем криптовалюты нужны нормальным людям (тем, кто не анархист и не наркоторговец), чем криптовалюты сейчас плохи и как в дэш предлагают решать эти проблемы.
#партнерский
#партнерский
Medium
Зачем вам криптовалюты, если вы не криптоанархист?
Партнерский материал
Отсутствие посредников, заложенное в протоколе криптовалют - штука обоюдоострая, можно и самому порезаться. Стоит вам профукать мастер-ключ, как плакали все ваши бетховены или любые другие монеты. Ну или не плакали, но уже не ваши. Профукать можно кучей способов: забыть, потерять, отдать хакерам (на горячем кошельке) или грабителям (на холодном), можно также добровольно отдать мудакам на биржах, онлайн-кошельках и прочих популярных лохотронах. И некуда будет писать письма, жаловаться на мошенничество, просить возврата всего нажитого непосильным трудом.
Но возьмем традиционные финансовые институты, которые как бы должны обеспечивать безопасность, служить гарантом доверия и все такое. Вот история про “Райффайзенбанк”, у клиента которого одновременно вытащили сим-карту и кредитку. Внезапно: банк позволяет сменить пин-код карты удаленно, в приложении телефона с подтверждением по СМС. Что было дальше легко догадаться. Какова в итоге реакция банка? Ведь он посредник, гарант и все такое. Тем более это его дебилы-работники настолько перегнули баланс удобства и безопасности в сторону удобства, что получили дыру в безопасности. Реакцию банка можно примерно описать как “гы-гы-гы, ебать ты лох”. Если после скандала банк включит заднюю, то следует задуматься о том, что далеко не у всякого клиента есть возможность раздуть скандал в прессе.
В общем, оказывается, что обнести вас на безналичные деньги, которые, типа, “защищены” банковской системой и государством, еще легче, чем оставить без биткоинов. А если одна и та же хрень, то зачем платить больше всем этим банковским дармоедам за “обслуживание”? И это более веский аргумент в пользу криптосбережений, чем их “независимость от государства”. Шанс того, что государство заморозит ваш счет весьма невелик (если вы не террорист и не оппозиционер, конечно). Зато шанс того, что к вам в карман залезет щипач Ашот и вытащит оттуда одновременно и телефон, и банковскую карту - гораздо более существенен.
Но возьмем традиционные финансовые институты, которые как бы должны обеспечивать безопасность, служить гарантом доверия и все такое. Вот история про “Райффайзенбанк”, у клиента которого одновременно вытащили сим-карту и кредитку. Внезапно: банк позволяет сменить пин-код карты удаленно, в приложении телефона с подтверждением по СМС. Что было дальше легко догадаться. Какова в итоге реакция банка? Ведь он посредник, гарант и все такое. Тем более это его дебилы-работники настолько перегнули баланс удобства и безопасности в сторону удобства, что получили дыру в безопасности. Реакцию банка можно примерно описать как “гы-гы-гы, ебать ты лох”. Если после скандала банк включит заднюю, то следует задуматься о том, что далеко не у всякого клиента есть возможность раздуть скандал в прессе.
В общем, оказывается, что обнести вас на безналичные деньги, которые, типа, “защищены” банковской системой и государством, еще легче, чем оставить без биткоинов. А если одна и та же хрень, то зачем платить больше всем этим банковским дармоедам за “обслуживание”? И это более веский аргумент в пользу криптосбережений, чем их “независимость от государства”. Шанс того, что государство заморозит ваш счет весьма невелик (если вы не террорист и не оппозиционер, конечно). Зато шанс того, что к вам в карман залезет щипач Ашот и вытащит оттуда одновременно и телефон, и банковскую карту - гораздо более существенен.
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ
Обворованный против банка: как Никита Аронов пытается вернуть деньги
Во времена, когда телефон превращается в банковский офис в твоем кармане, возрастают и риски. Герой публикации Никита Аронов попал в досаднейшую историю. В одну ночь с его счёта исчезло с концами 350 тысяч рублей. Интернет-мошенники снова переплюнули целый…
На днях вышел фильм Лорен Сазерн о нынешней ситуации в ЮАР. Все плохо: в стране 50% безработица, 16 млн. получателей пособий на 3 млн. налогоплательщиков, национальная валюта в заднице. Результат соответствующий: черные грабят и убивают белых, белые вооружаются и создают отряды самообороны, многие готовятся к гражданской войне.
Лорен также показывает закрытый город Оранию, где вообще нет преступности, живут белые африканеры и “сохраняют свою культуру” (население - 1500 человек). Здесь впору задуматься: а ведь когда-то вся ЮАР была похожа на ту Оранию. Белые отдельно, черные отдельно, все “сохраняют свою культуру”. Не зря лозунг американских расистов прошлого века звучал как separate but equal. Именно на такой опыт они ориентировались.
И поглядите чем это закончилось. Ведь война всех против всех - прямое следствие политики сегрегации. Если вы создаете закрытые анклавы, где люди десятилетиями варятся в собственном соку, не удивляйтесь потом, что они начинают смотреть с ненавистью на анклавы соседей. Современные африканеры не должны нести отвественности за неправильную политику своих предков. Но ведь именно их предки ошибочно надеялись, что воздвигнутые ими заборчики вокруг бантустанов простоят вечно.
Лозунг separate but equal ошибочен. Люди, конечно, должны быть равны в правах и свободах. Однако культуры не равны. Один образ жизни ведет к счастью и процветанию, другой - к упадку и нищете. Сегрегация под лозунгом separate but equal - это темная сторона мультикультурализма, постулирующая “равенство” культур. Но одни всегда окажутся менее успешными, чем другие. В условиях сегрегации это станет почвой для войны - рано или поздно вам придется столкнуться с толпами озлобленных и нищих людей.
Выход - добровольное взаимодействие и постоянный обмен опытом. То есть свободная экономика, торговля и т.д. Вместо огораживания ради “сохранения образа жизни”, которое неизбежно закончится как в ЮАР.
Лорен также показывает закрытый город Оранию, где вообще нет преступности, живут белые африканеры и “сохраняют свою культуру” (население - 1500 человек). Здесь впору задуматься: а ведь когда-то вся ЮАР была похожа на ту Оранию. Белые отдельно, черные отдельно, все “сохраняют свою культуру”. Не зря лозунг американских расистов прошлого века звучал как separate but equal. Именно на такой опыт они ориентировались.
И поглядите чем это закончилось. Ведь война всех против всех - прямое следствие политики сегрегации. Если вы создаете закрытые анклавы, где люди десятилетиями варятся в собственном соку, не удивляйтесь потом, что они начинают смотреть с ненавистью на анклавы соседей. Современные африканеры не должны нести отвественности за неправильную политику своих предков. Но ведь именно их предки ошибочно надеялись, что воздвигнутые ими заборчики вокруг бантустанов простоят вечно.
Лозунг separate but equal ошибочен. Люди, конечно, должны быть равны в правах и свободах. Однако культуры не равны. Один образ жизни ведет к счастью и процветанию, другой - к упадку и нищете. Сегрегация под лозунгом separate but equal - это темная сторона мультикультурализма, постулирующая “равенство” культур. Но одни всегда окажутся менее успешными, чем другие. В условиях сегрегации это станет почвой для войны - рано или поздно вам придется столкнуться с толпами озлобленных и нищих людей.
Выход - добровольное взаимодействие и постоянный обмен опытом. То есть свободная экономика, торговля и т.д. Вместо огораживания ради “сохранения образа жизни”, которое неизбежно закончится как в ЮАР.
YouTube
FARMLANDS (2018) | Official Documentary
Buy Farmlands DVD: https://laurensouthern.net/documentaries/farmlands/
Thank you for watching! Please share to spread the word.
You can support my work via:
Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/LaurenSouthernca
Membership: https://www.subscribestar.com/lauren…
Thank you for watching! Please share to spread the word.
You can support my work via:
Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/LaurenSouthernca
Membership: https://www.subscribestar.com/lauren…
В продолжении темы про сегрегацию и "сохранение образа жизни". Недавно в либертарианской тусовочке был спор про "частные границы" и миграцию. Написал в итоге о том, почему в безгосударственном обществе обилия таких границ не будет, а для поддержания консервативных идеалов неизбежно требуется насилие.
(сразу предупреждаю, что тема довольно специфическая)
#либертарианство #лонгриды
(сразу предупреждаю, что тема довольно специфическая)
#либертарианство #лонгриды
Medium
Консервативная сова и либертарианский глобус
Философия либертарианства базируется на принципе самопринадлежности, сформулированном Джоном Локком: “… каждый человек обладает некоторой…
🔥1
Футбол подарил нам занятное явление - “полицию радости”. Говорят, дескать, негоже веселиться и радовать, когда вас лишают пенсий и вводят в дело закон Яровой.
Так ли это? Как вообще сказывают спортивные победы на политической обстановке? С одной стороны, спортивные состязания - излюбленное занятие авторитарных режимов. Со времен древнегреческой Олимпиады спорт служил сублимацией войны. А в современном мире авторитарные режимы, как правило, неспособны воевать с либеральными, равно как и соревноваться в экономике, науке и других областях. Спорт - единственная оставшаяся сфера, где Северная Корея или Иран могут выйти против Британии, Франции или США, имея при этом шанс на победу.
Командный спорт - средство нацбилдинга, укрепления коллективной идентичности. Атлеты в одиночных видах спорта представляют страну, но также олицетворяют конкретную личность. А вот команда из пары десятков человек - явное олицетворение общности (страны, нации и т.д). Учитывая, что другие средства нацбилдинга, вроде выборов и референдумов, недоступны автократии, остается лишь абузить этот.
Но нацбилдинг - обоюдоострый меч, о который можно и порезаться. Внушив обществу избыток солидарности, власть рискует затем ощутить его на своей шкуре. Спортивным состязаниям сопутствует то, чего в автократиях больше всего боятся: неуправляемые массовые сборища, во время которых люди привыкают без опаски озвучивать все, что у них на душе. В этом длинном тексте приводится ряд примеров, как футбольные победы влияли на политическую обстановку. Во многих случаях футбол использовался диктаторами для своих нужд, но в других - влиял на становление протестных движений. Спорт может оказаться как оружием власти, так и оружием общества.
Прогуливаясь вчера по центру Москвы, можно было заметить, что люди кричат “Россия”, а не “Единая Россия”, “Акинфеев”, а не “Путин”. Вместо официозного национального гимна поют “Катюшу”. Они размахивают триколорами, которые завтра легко представить на протестном митинге, а заодно привыкают к тому, что менты стоят смирно и не чирикают. Учитывая, что рейтинг Путина на этом фоне падает, окрики фаталистов вроде “это все пойдет на пользу режиму”, явно преждевременны.
Так ли это? Как вообще сказывают спортивные победы на политической обстановке? С одной стороны, спортивные состязания - излюбленное занятие авторитарных режимов. Со времен древнегреческой Олимпиады спорт служил сублимацией войны. А в современном мире авторитарные режимы, как правило, неспособны воевать с либеральными, равно как и соревноваться в экономике, науке и других областях. Спорт - единственная оставшаяся сфера, где Северная Корея или Иран могут выйти против Британии, Франции или США, имея при этом шанс на победу.
Командный спорт - средство нацбилдинга, укрепления коллективной идентичности. Атлеты в одиночных видах спорта представляют страну, но также олицетворяют конкретную личность. А вот команда из пары десятков человек - явное олицетворение общности (страны, нации и т.д). Учитывая, что другие средства нацбилдинга, вроде выборов и референдумов, недоступны автократии, остается лишь абузить этот.
Но нацбилдинг - обоюдоострый меч, о который можно и порезаться. Внушив обществу избыток солидарности, власть рискует затем ощутить его на своей шкуре. Спортивным состязаниям сопутствует то, чего в автократиях больше всего боятся: неуправляемые массовые сборища, во время которых люди привыкают без опаски озвучивать все, что у них на душе. В этом длинном тексте приводится ряд примеров, как футбольные победы влияли на политическую обстановку. Во многих случаях футбол использовался диктаторами для своих нужд, но в других - влиял на становление протестных движений. Спорт может оказаться как оружием власти, так и оружием общества.
Прогуливаясь вчера по центру Москвы, можно было заметить, что люди кричат “Россия”, а не “Единая Россия”, “Акинфеев”, а не “Путин”. Вместо официозного национального гимна поют “Катюшу”. Они размахивают триколорами, которые завтра легко представить на протестном митинге, а заодно привыкают к тому, что менты стоят смирно и не чирикают. Учитывая, что рейтинг Путина на этом фоне падает, окрики фаталистов вроде “это все пойдет на пользу режиму”, явно преждевременны.
Создатели известного ютуб-канала Kurzgesagt нарисовали крутой проект объясняющий, почему алармистские причитания мальтузианцев о грядущем кризисе и перенаселении земли - полная ерунда. Суть проста: в доиндустриальную эпоху высокая рождаемость урановешивала высокую смертность, затем прогресс резко сократил смертность, а рождаемость осталась на прежнем уровне - в результате случился резкий демографический скачок 19-20 вв. Но за этим неизбежно следует новый демографический переход - когда культурный прогресс догоняет технический, люди перестают плодиться как кролики, предпочитая ограничиваться 1-2 детьми. Таким образом попросту восстанавливается баланс рождаемости и смертности.
В разных регионах процесс проходит неравномерно. Европа пришла к этому раньше, чем Африка и Азия, что дает возможность мамкиным борцам за белую расу кричать, будто “скоро нас перерожают негры и китайцы”. Но данные свидетельствуют, что весь мир движется в эту сторону - в Сомали все еще рожают по 6 детей, но в Индии уже 2.5. Чем больше контрацепции, здравоохранения и образования - тем меньше детей. Поэтому самое эффективное, что могут сделать радетели за белую расу - отправиться волонтерами в Африку, чтобы распространять там культуру и контрацепцию.
В разных регионах процесс проходит неравномерно. Европа пришла к этому раньше, чем Африка и Азия, что дает возможность мамкиным борцам за белую расу кричать, будто “скоро нас перерожают негры и китайцы”. Но данные свидетельствуют, что весь мир движется в эту сторону - в Сомали все еще рожают по 6 детей, но в Индии уже 2.5. Чем больше контрацепции, здравоохранения и образования - тем меньше детей. Поэтому самое эффективное, что могут сделать радетели за белую расу - отправиться волонтерами в Африку, чтобы распространять там культуру и контрацепцию.
🐳2
Киты плывут на вписку с ЛСД pinned «Написал для "Репаблика" большой текст о том, какие проблемы сулит нам эпоха малых СМИ и блогеров, приходящих на смену крупным медиа. Как модные цифровые технологии ведут нас в царство вранья и лицемерия? Что общего у американских сектантов и звезд российского…»
Ныне в соцсетях развернулась кампания против Галины Паниной, пиарщицы “Леруа Мерлен”, написавшей недавно, будто болельщики в Москве сожгли какую-то девушку, а затем назвавшую комментаторов поста “ваткой”. На этом примере видно, как работает машина интернет-шейминга: Панина успела уже раз десять извиниться за свой пост, тем не менее скрины разлетелись по всему интернету, и на нее продолжают сыпаться все новые угрозы и обвинения. От работы в “Леруа Мерлен” она ныне отстранена.
Все это напоминает лучшие образчики западного жанра. Историю Джастин Сакко, которая перед отлетом в ЮАР написала твит: “Лечу в Африку, надеюсь на подхвачу ВИЧ. Шутка, я же белая!” Джастин вошла в самолет, а вышла уже знаменитой, оказавшись в трендах твиттера в качестве образца “расизма”. Заболеть ВИЧ - это примерно самое мягкое, что желала ей выступившая в крестовый поход против расизма общественность. Работы она тоже лишилась - ведь публика требовала.
Об этом и других случаях вышедшего из контроля шейминга рассказывает журналист Джон Ронсон на TED. Он говорит о том, что изначально социальные сети давали голос тем, кто был этого голоса лишен. Обычные люди могли выступить против людей наделенных властью, обличить тех во лжи и несправедливости. Но теперь хищные стаи радетелей за интернет-мораль готовы обрушиться на любого, кто просто сказал что-то не то (по их мнению). Из места, где люди обретают голос, соцсети превратилась в место, где они боятся лишний раз пикнуть, дабы не попасть под каток шейминга. И если говорят, то только нечто близкое к усредненному “правильному мнению”. Таким образом мы получили худший вид цензуры, за соблюдением которой следят не государственные ведомства, а миллионы маленьких самодовольных цензоров.
Стоит вспоминать об этом всякий раз, когда вы испытываете желание кинуть в кого-то виртуальный камень. Даже если цель заслуживает осуждения, ваш камень может превратиться в град. И вы станете невольным соучастником превращения интернета в пространство невротизированной самоцензуры и маниакальной охоты на ведьм.
Все это напоминает лучшие образчики западного жанра. Историю Джастин Сакко, которая перед отлетом в ЮАР написала твит: “Лечу в Африку, надеюсь на подхвачу ВИЧ. Шутка, я же белая!” Джастин вошла в самолет, а вышла уже знаменитой, оказавшись в трендах твиттера в качестве образца “расизма”. Заболеть ВИЧ - это примерно самое мягкое, что желала ей выступившая в крестовый поход против расизма общественность. Работы она тоже лишилась - ведь публика требовала.
Об этом и других случаях вышедшего из контроля шейминга рассказывает журналист Джон Ронсон на TED. Он говорит о том, что изначально социальные сети давали голос тем, кто был этого голоса лишен. Обычные люди могли выступить против людей наделенных властью, обличить тех во лжи и несправедливости. Но теперь хищные стаи радетелей за интернет-мораль готовы обрушиться на любого, кто просто сказал что-то не то (по их мнению). Из места, где люди обретают голос, соцсети превратилась в место, где они боятся лишний раз пикнуть, дабы не попасть под каток шейминга. И если говорят, то только нечто близкое к усредненному “правильному мнению”. Таким образом мы получили худший вид цензуры, за соблюдением которой следят не государственные ведомства, а миллионы маленьких самодовольных цензоров.
Стоит вспоминать об этом всякий раз, когда вы испытываете желание кинуть в кого-то виртуальный камень. Даже если цель заслуживает осуждения, ваш камень может превратиться в град. И вы станете невольным соучастником превращения интернета в пространство невротизированной самоцензуры и маниакальной охоты на ведьм.
YouTube
How one tweet can ruin your life | Jon Ronson
For the longest time Jon Ronson reveled in the fact that Twitter gave a voice to the voiceless ... the social media platform gave us all a chance to speak up and hit back at perceived injustice. But somewhere along the way, things took a turn. In this passionate…
Есть мнение, будто интернет шейминг - это проявление “рынка репутации”. Но с тем же успехом можно назвать “рыночными” суд Линча или стихийный погром. Ведь что такое рынок? Механизм распределения ресурсов, в рамках которого польза для индивида может совпадать с общественной пользой. Например, лесоруб продает древесину производителю через цепочку посредников. Каждый в этой цепочке действует преследуя собственную выгоду, но конечным результатом является общее благо - к примеру, производство карандашей. Так работает “невидимая рука”.
Но несложно заметить, что речь идет об ограниченных ресурсах. Лесоруб не может продать одно дерево дважды. А производитель плохого товара в итоге разорится. На рынке люди несут ответственность за свои решения, благодаря этому работает “невидимая рука”. Но все иначе, когда речь заходит о ресурсах, доступ к которым нельзя ограничить (ими можно пользоваться, не неся ответственности). Поэтому общинное поле будет подвергаться гиперэксплуатации (“трагедия общин”), а свободное копирование информации лишает авторов мотивации к труду.
В случае с деловой (рыночной) репутацией задействованы ограниченные ресурсы - к ней относятся всерьез потому, что на кону стоят реальные деньги. Но как обстоит дело в случае онлайн-шейминга? Осудив соцсетях “наташку, которая путается с неграми” или “русофобку из Леруа” человек ничем не рискует - это аттракцион с нулевыми издержками и очевидными выгодами в виде virtue signaling (“посмотрите какой я хороший”). Поэтому желающих обвинить кого-то большой толпой всегда вагон, но предложи тем же людям свидетельствовать в суде, где прописана ответственность за ложь и клевету - всех тут же как ветром сдует.
Сейчас в американских соцсеточках шеймят женщину, которая убила на охоте африканского жирафа. Жираф погиб в пожилом возрасте, а охота была легальной (за счет нее живет страна в т.ч. поддерживая популяцию дикой фауны). Но разве кого-то волнуют такие нюансы? Ведь у шеймера в интернете не больше мотивации вникать в суть вопроса, чем у пастуха переживать за сохранность общинного поля. Поэтому стихийный шейминг и рыночная репутация - принципиально разные вещи.
Но несложно заметить, что речь идет об ограниченных ресурсах. Лесоруб не может продать одно дерево дважды. А производитель плохого товара в итоге разорится. На рынке люди несут ответственность за свои решения, благодаря этому работает “невидимая рука”. Но все иначе, когда речь заходит о ресурсах, доступ к которым нельзя ограничить (ими можно пользоваться, не неся ответственности). Поэтому общинное поле будет подвергаться гиперэксплуатации (“трагедия общин”), а свободное копирование информации лишает авторов мотивации к труду.
В случае с деловой (рыночной) репутацией задействованы ограниченные ресурсы - к ней относятся всерьез потому, что на кону стоят реальные деньги. Но как обстоит дело в случае онлайн-шейминга? Осудив соцсетях “наташку, которая путается с неграми” или “русофобку из Леруа” человек ничем не рискует - это аттракцион с нулевыми издержками и очевидными выгодами в виде virtue signaling (“посмотрите какой я хороший”). Поэтому желающих обвинить кого-то большой толпой всегда вагон, но предложи тем же людям свидетельствовать в суде, где прописана ответственность за ложь и клевету - всех тут же как ветром сдует.
Сейчас в американских соцсеточках шеймят женщину, которая убила на охоте африканского жирафа. Жираф погиб в пожилом возрасте, а охота была легальной (за счет нее живет страна в т.ч. поддерживая популяцию дикой фауны). Но разве кого-то волнуют такие нюансы? Ведь у шеймера в интернете не больше мотивации вникать в суть вопроса, чем у пастуха переживать за сохранность общинного поля. Поэтому стихийный шейминг и рыночная репутация - принципиально разные вещи.
Тем временем на сайте Quillette вышел интересный текст под названием “Умеренные врут”. Пишут о поляризации американского общества, которое произошло в последние годы. Согласно Pew Research Center идеологический зазор между средним республиканцем и средним демократом на 2014-ом году составил 36%, тогда как в 1994 он равнялся 15%. Почему же он настолько вырос? Автор ссылается на Талеба, утверждающего, что большинство идеологически пассивно и склонно дрейфовать в ту сторону, куда его тянут идейно заряженные меньшинства. Порогом является доля в 10% - когда носителей взглядов становится больше, они завоевывают публику.
Однако важный нюанс: опросы общественного мнения в США показывают одно, а результаты тайного голосования оказываются иными. Только 6 из 61 опросов предрекали победу Трампа, но в результате Трамп победил. Отсюда вывод: большинство не принимает взгляды крикливого меньшинства, а только делает вид. К примеру, всякое SJW-безумие на кампусах распространяет идеологизированное меньшинство, а большинство студентов молча принимает сложившиеся правила. Просто потому, что не хочет вступать в конфронтацию и становится объектом нападок со стороны борцов за социальную справедливость и прочее гендерное равенство. Но когда появляется возможность тайно выразить взгляды - голосуют за Трампа.
Что же привело к этой гегемонии крикливых меньшинств над предпочитающим помалкивать большинством? Очевидно, в том числе развитие культуры интернет-шейминга, позволяющей малой группе мгновенно заклевать нужную цель. В результате представители большинства предпочитаю избегать высказываний, которые будут поняты меньшинством как “харрасмент”, “буллинг” и т.д. Если раньше для организации “кампании осуждения” требовалось нести издержки (к примеру, организовать митинг, добиться публикации в прессе и т.д.), то теперь достаточно твиттера, что сильно облегчило жизнь агрессивным спаянным меньшинствам.
Однако важный нюанс: опросы общественного мнения в США показывают одно, а результаты тайного голосования оказываются иными. Только 6 из 61 опросов предрекали победу Трампа, но в результате Трамп победил. Отсюда вывод: большинство не принимает взгляды крикливого меньшинства, а только делает вид. К примеру, всякое SJW-безумие на кампусах распространяет идеологизированное меньшинство, а большинство студентов молча принимает сложившиеся правила. Просто потому, что не хочет вступать в конфронтацию и становится объектом нападок со стороны борцов за социальную справедливость и прочее гендерное равенство. Но когда появляется возможность тайно выразить взгляды - голосуют за Трампа.
Что же привело к этой гегемонии крикливых меньшинств над предпочитающим помалкивать большинством? Очевидно, в том числе развитие культуры интернет-шейминга, позволяющей малой группе мгновенно заклевать нужную цель. В результате представители большинства предпочитаю избегать высказываний, которые будут поняты меньшинством как “харрасмент”, “буллинг” и т.д. Если раньше для организации “кампании осуждения” требовалось нести издержки (к примеру, организовать митинг, добиться публикации в прессе и т.д.), то теперь достаточно твиттера, что сильно облегчило жизнь агрессивным спаянным меньшинствам.
Quillette
Political Moderates Are Lying
Change is wrought by those willing to lead or force others toward it. Which is why we are skeptical that most people truly believe every position they express.
Напомню, что у нас есть также отдельный канал про блокчейн и криптовалюты. Где нет прогнозов курса от мамкиных аналитиков и тому подобной ерунды. Зато мы понятным языком рассказываем, как эти технологии меняют политику и общество.
Дайджест:
Пенсионная система на блокчейне
Будущее децентрализованной торговли
Государственные криптовалюты и налогообложение
Блокчейн на самом деле не решает проблему доверия
Лонгрид о будущем децентрализованного интернета
Подписывайтесь - @libcoin
Дайджест:
Пенсионная система на блокчейне
Будущее децентрализованной торговли
Государственные криптовалюты и налогообложение
Блокчейн на самом деле не решает проблему доверия
Лонгрид о будущем децентрализованного интернета
Подписывайтесь - @libcoin
Люди требующие что-либо запрещать (наркотики, алкоголь, аборты, секс-работу и т.д.) не учитывают очевидный парадокс: запреты работают лишь там, где они не особенно нужны, и не работают там, где проблема, которую пытаются решить, стоит остро. Возьмем для примера алкоголь. Реальная проблема в России возглавляющей рейтинги потребления спирта. Время от времени находятся люди, утверждающие, будто нужно сделать алкоголь таким же трудно доступным, как в Скандинавии.
Почему так не получится? Государство не может ничего запретить. Что оно реально делает - повышает издержки. Оно может сделать некоторые вещи “дороже” - за них приходится платить дополнительным риском, временем и т.д. Как правило это еще конвертируется в деньги - запрещенный продукт становится дороже. Мало того, что повышение цен привлекает на рынок продавцов вроде бутлегеров или наркокартелей, вся надежда здесь на то, что возросшие издержки просто отпугнут потребителя.
Но отпугнут ли? Возьмем ту же Скандинавию - в рейтинге качества жизни они занимают высокие места. По сути это означает, что у шведов, датчан, финнов и прочих есть чем заняться, помимо пьянок. Можно путешествовать, заниматься спортом, ездить на природу и т.д. и т.п. На все это у шведов, датчан и финнов есть время и деньги. А когда у одного из многочисленных средств рекреации повышают издержки - люди от него откажутся просто потому, что есть дешевые альтернативы. Впрочем, тоже не все, учитывая знаменитые скандинавские алкотуры в соседние страны.
Различные виды досуга зависят от временных предпочтений людей. Всем понятно, что фитнес и ЗОЖ - это про “жить долго и счастливо” (вы тратите время сегодня, чтобы получить отдачу в виде будущего здоровья). А злоупотребление веществами - наоборот (вы жертвуете будущим ради удовольствия здесь и сейчас). Поэтому условно “здоровые” развлечения будут популярны в стабильных странах, где люди уверены в завтрашнем дне, в нестабильных - будут популярны темы с мгновенной отдачей.
Запретительная политика может работать в Скандинавии, где и без запретов пьянство не было популярным развлечением. Но в странах, где это реально проблема, запреты не будут работать. Потому, что в отсутствии альтернатив никакое повышение издержек не заставит людей отказаться от немногих доступных развлечений. Они будут потреблять суррогаты, коррумпировать государство, находить еще более неприглядные формы досуга и т.д. Таков “парадокс запретов”: там, где они работают - они не нужны, а там, где нужны - не работают. Потому запрещать - бессмысленно.
Почему так не получится? Государство не может ничего запретить. Что оно реально делает - повышает издержки. Оно может сделать некоторые вещи “дороже” - за них приходится платить дополнительным риском, временем и т.д. Как правило это еще конвертируется в деньги - запрещенный продукт становится дороже. Мало того, что повышение цен привлекает на рынок продавцов вроде бутлегеров или наркокартелей, вся надежда здесь на то, что возросшие издержки просто отпугнут потребителя.
Но отпугнут ли? Возьмем ту же Скандинавию - в рейтинге качества жизни они занимают высокие места. По сути это означает, что у шведов, датчан, финнов и прочих есть чем заняться, помимо пьянок. Можно путешествовать, заниматься спортом, ездить на природу и т.д. и т.п. На все это у шведов, датчан и финнов есть время и деньги. А когда у одного из многочисленных средств рекреации повышают издержки - люди от него откажутся просто потому, что есть дешевые альтернативы. Впрочем, тоже не все, учитывая знаменитые скандинавские алкотуры в соседние страны.
Различные виды досуга зависят от временных предпочтений людей. Всем понятно, что фитнес и ЗОЖ - это про “жить долго и счастливо” (вы тратите время сегодня, чтобы получить отдачу в виде будущего здоровья). А злоупотребление веществами - наоборот (вы жертвуете будущим ради удовольствия здесь и сейчас). Поэтому условно “здоровые” развлечения будут популярны в стабильных странах, где люди уверены в завтрашнем дне, в нестабильных - будут популярны темы с мгновенной отдачей.
Запретительная политика может работать в Скандинавии, где и без запретов пьянство не было популярным развлечением. Но в странах, где это реально проблема, запреты не будут работать. Потому, что в отсутствии альтернатив никакое повышение издержек не заставит людей отказаться от немногих доступных развлечений. Они будут потреблять суррогаты, коррумпировать государство, находить еще более неприглядные формы досуга и т.д. Таков “парадокс запретов”: там, где они работают - они не нужны, а там, где нужны - не работают. Потому запрещать - бессмысленно.
👍2
Требовать введения новых запретов и ограничений, живя в авторитарном государстве - не слишком умное занятие. Ныне обсуждается печальная история девушки из Новосибирска, пострадавшей от сталкера. В публичном поле активизировалась секта свидетелей охранного ордера (судебное предписание не приближаться к человеку) и прочих западных законов по "борьбе с харрасментом". Дескать, введем у нас такие же законы - и сразу заживем. От создателей "сделаем налоги как в Швеции - станем Швецией" и "введем МРОТ как в Норвегии - станем Норвегией".
Столичным борцам за все хорошее стоит начинать утро не с чтения "Хаффпоста", а с чтения "Медиазоны", дабы не забывать в какой стране они живут. В этой стране пытки в полиции являются нормой, а судьи подшивают добытые таким образом "доказательства" к приговору и раздают сроки. Представим, что завтра бешеный принтер принял закон об "охранный ордерах" под редакцией Е. Мизулиной и спустил всем этим исполнителям на местах - как это будет работать? В лучшем случае никак, в худшем - ордерами обложатся жулики и воры, а наказывать за их нарушение будут журналистов и политактивистов. Мы это уже проходили, когда принимали антиэкстремистское законодательство - теперь пол-интернета заблокировано и людей сажают за репосты карикатур со свастиками.
Безопасность - это общественное благо. Невозможно принять один закон эффективно защищающий жертв сталкинга в стране, где правоохранительная система сама является источником опасности для граждан. Хотите жить в безопасной стране? Начинать нужно с головы: с борьбы за честные выборы, независимый суд, подлинное разделение властей. Затем можно будет обсуждать конкретные законы. А до того - это культ карго, строительство соломенных самолетов с пропеллерами из говна и палок.
Столичным борцам за все хорошее стоит начинать утро не с чтения "Хаффпоста", а с чтения "Медиазоны", дабы не забывать в какой стране они живут. В этой стране пытки в полиции являются нормой, а судьи подшивают добытые таким образом "доказательства" к приговору и раздают сроки. Представим, что завтра бешеный принтер принял закон об "охранный ордерах" под редакцией Е. Мизулиной и спустил всем этим исполнителям на местах - как это будет работать? В лучшем случае никак, в худшем - ордерами обложатся жулики и воры, а наказывать за их нарушение будут журналистов и политактивистов. Мы это уже проходили, когда принимали антиэкстремистское законодательство - теперь пол-интернета заблокировано и людей сажают за репосты карикатур со свастиками.
Безопасность - это общественное благо. Невозможно принять один закон эффективно защищающий жертв сталкинга в стране, где правоохранительная система сама является источником опасности для граждан. Хотите жить в безопасной стране? Начинать нужно с головы: с борьбы за честные выборы, независимый суд, подлинное разделение властей. Затем можно будет обсуждать конкретные законы. А до того - это культ карго, строительство соломенных самолетов с пропеллерами из говна и палок.
В журнале Spiked вышла едкая подборка текстов про секс, насилие, феминизм, инселов и тому подобные всех волнующие темы.
Джоана Вильямс пишет, что #metoo является сугубо консервативным по своей сути. Чем раньше консерваторы запугивали девушек, дабы отвадить от “беспорядочных связей”? Венерическими заболеваниями, внебрачной беременностью, общественным осуждением. В наше время контрацепция продается на каждом углу, поэтому проблемы болезней и беременности отошли на второй план. Но теперь придумали новое пугало - ее величество Психологическую Травму.
Проповедники нового пуританства твердят, будто секс чреват насилием, абьюзом, шеймингом и прочим набором, последствия которого вы будете всю жизнь лечить у психотерапевта, примерно как лечили сифилис ваши легкомысленные прабабушки. Матриархи, осуждающие девушек за фривольное поведение, никуда не исчезли. Просто сегодня это не матушки-игуменьи, а психотерапевты, фемактивистки и прочие прогрессивные граждане.
Неизменным остается главное: представление о женщине, как о хрупком и слабом существе, которое могут “сломать” кружащие вокруг мужчины-хищники. Раньше “сломанная” женщина оставалась с внебрачным ребенком на руках, а теперь с “травмой” и пожизненным абонементом к психотерапевту. Эпоха “свободной любви” прошла, наступила эпоха бегства от риска.
Единственный способ избежать риска получения “травмы” - взаимодействовать по четким, заранее оговоренным правилам. Отсюда вся эта “культура согласия”, подразумевающая формализацию и обсуждение каждого шага. Но именно формализация убивает интимность - ведь формальные соглашения заключают там, где нет доверия. Лишившись интимности, доверия и спонтанности секс нивелируется до физического процесса, пустого и бессмысленного.
Джоана Вильямс пишет, что #metoo является сугубо консервативным по своей сути. Чем раньше консерваторы запугивали девушек, дабы отвадить от “беспорядочных связей”? Венерическими заболеваниями, внебрачной беременностью, общественным осуждением. В наше время контрацепция продается на каждом углу, поэтому проблемы болезней и беременности отошли на второй план. Но теперь придумали новое пугало - ее величество Психологическую Травму.
Проповедники нового пуританства твердят, будто секс чреват насилием, абьюзом, шеймингом и прочим набором, последствия которого вы будете всю жизнь лечить у психотерапевта, примерно как лечили сифилис ваши легкомысленные прабабушки. Матриархи, осуждающие девушек за фривольное поведение, никуда не исчезли. Просто сегодня это не матушки-игуменьи, а психотерапевты, фемактивистки и прочие прогрессивные граждане.
Неизменным остается главное: представление о женщине, как о хрупком и слабом существе, которое могут “сломать” кружащие вокруг мужчины-хищники. Раньше “сломанная” женщина оставалась с внебрачным ребенком на руках, а теперь с “травмой” и пожизненным абонементом к психотерапевту. Эпоха “свободной любви” прошла, наступила эпоха бегства от риска.
Единственный способ избежать риска получения “травмы” - взаимодействовать по четким, заранее оговоренным правилам. Отсюда вся эта “культура согласия”, подразумевающая формализацию и обсуждение каждого шага. Но именно формализация убивает интимность - ведь формальные соглашения заключают там, где нет доверия. Лишившись интимности, доверия и спонтанности секс нивелируется до физического процесса, пустого и бессмысленного.
Spiked
Sex after #MeToo
Heterosexual relationships are in crisis.
🐳2
В тему: содержание текста Джоанны Вильямс (см. выше) перекликается с моим старым текстом на Репаблике, посвященном тому, как стремление избежать риска убивает любовь и загоняет нас всех в уютненькие изолированные эхо-комнаты.
.. где же начинается путь к сегрегации, изоляции и распаду? Возможно, что начинается все именно с рационализаторского подхода к любви, ставящего превыше всего комфорт, предсказуемость и безопасность. Первый шаг в сторону сектантства вы делаете тогда, когда начинаете размышлять о «подходящей партии» и «правильном выборе партнера», когда лишаете любовь непредсказуемости и риска, отказываетесь от познания себя и другого ради совпадения ряда глупых формальных показателей.
#лонгриды
.. где же начинается путь к сегрегации, изоляции и распаду? Возможно, что начинается все именно с рационализаторского подхода к любви, ставящего превыше всего комфорт, предсказуемость и безопасность. Первый шаг в сторону сектантства вы делаете тогда, когда начинаете размышлять о «подходящей партии» и «правильном выборе партнера», когда лишаете любовь непредсказуемости и риска, отказываетесь от познания себя и другого ради совпадения ряда глупых формальных показателей.
#лонгриды
republic.ru
Виртуальная сегрегация, или Как выйти из соцсетей и научиться любить
Социальное огораживание XXI века лишает нас возможности как познать себя, так и понять другого
На “Репаблике” пишут о том, какое применение инновационные технологии находят в прекрасной стране Индии - через мессенджер WhatsApp там распространяют моральную панику, результатом которой становятся убийства. По сети разносятся слухи о “похитителях детей”, а под раздачу разъяренной толпы попадают случайные люди. Эпоха сошедшего в архаику киберпанка - high tech, low IQ.
Очередное свидетельство нищеты представлений о том, будто технологии меняют и облагораживают людей сами по себе. Дескать, достаточно провести широкополосный интернет в глухие районы, как люди резко умнеют. Но нет, технологии сами по себе не решают проблему культуры. А без этого - через мессенджеры будут координировать убийства чести, а наученные программированию дикари напишут приложение, позволяющее записывать дочерей в электронную очередь на женское обрезание. Отсюда - важность гуманитарного знания и социальных технологий (институтов), которое столь часто недооценивают технократы.
Интересно также, что СМИ, корпорации и правительства выступают здесь в роли сдерживающего фактора. В отличие от обычных пользователей, СМИ вынуждены проверять информацию, а правительство и администрация WhatsApp в Индии пытаются бороться с истерией. Но что будет мешать распространению моральной паники, когда место централизованных мессенджеров займут децентрализованные (на блокчейне)? А ничего.
Это, разумеется, не призыв бороться с технологиями (тем более, что джина не засунешь обратно в бутылку). Но призыв к тому, чтобы смирять щенячий восторг восхищения прогрессом осознанием того, что технологии могут проявлять не только светлые, но и самые темные стороны людской природы.
Очередное свидетельство нищеты представлений о том, будто технологии меняют и облагораживают людей сами по себе. Дескать, достаточно провести широкополосный интернет в глухие районы, как люди резко умнеют. Но нет, технологии сами по себе не решают проблему культуры. А без этого - через мессенджеры будут координировать убийства чести, а наученные программированию дикари напишут приложение, позволяющее записывать дочерей в электронную очередь на женское обрезание. Отсюда - важность гуманитарного знания и социальных технологий (институтов), которое столь часто недооценивают технократы.
Интересно также, что СМИ, корпорации и правительства выступают здесь в роли сдерживающего фактора. В отличие от обычных пользователей, СМИ вынуждены проверять информацию, а правительство и администрация WhatsApp в Индии пытаются бороться с истерией. Но что будет мешать распространению моральной паники, когда место централизованных мессенджеров займут децентрализованные (на блокчейне)? А ничего.
Это, разумеется, не призыв бороться с технологиями (тем более, что джина не засунешь обратно в бутылку). Но призыв к тому, чтобы смирять щенячий восторг восхищения прогрессом осознанием того, что технологии могут проявлять не только светлые, но и самые темные стороны людской природы.
Познавательное видео о том, почему “скандинавский социализм” является мифом. Точнее, там про Швецию - что всеми своим достижениям Швеция обязана либеральной (даже либертарианской) экономической политике.
https://youtu.be/NPJdeQd6KrY
https://youtu.be/NPJdeQd6KrY
Сейчас обсуждаются такие достижения российского футбола, как повышение пенсионного возраста и повышение НДС. Но не следует также забывать о еще одной важной победе мундиаля - скорой кончине топливного рынка. В свое время большевики сделали невозможное - превратили страну-крупнейшего экспортера продовольствия в страну, где миллионы людей умирали от голода. Нынешним властям нужно повторить подвиг предшественников, добившись того, чтобы жители страны-бензоколонки платили за бензин столько, будто президентом у них стал Илон Маск, а правительство пересаживает всех на электрокары.
Происходить это будет в несколько этапов: 1. морозят розничные цены на бензин (пиар сопровождение: хороший царь осадил плохих буржуев) 2. с рынка АЗС вылетает весь малый бизнес, потеряв рентабельность. 3. остаются только гиганты вроде "Роснефти". 4. здравствуй картельный сговор со всеми прелестями вроде дефицита и огромных цен.
Впрочем, есть плюсы. Будет повод проложить по всей стране велодорожки, как нынче в Москве. А пересевшее на велосипеды и самокаты население оздоровится и сможет таки дотянуть до нынешнего пенсионного возраста!
Подробнее по теме здесь (сухим экономическим языком).
Происходить это будет в несколько этапов: 1. морозят розничные цены на бензин (пиар сопровождение: хороший царь осадил плохих буржуев) 2. с рынка АЗС вылетает весь малый бизнес, потеряв рентабельность. 3. остаются только гиганты вроде "Роснефти". 4. здравствуй картельный сговор со всеми прелестями вроде дефицита и огромных цен.
Впрочем, есть плюсы. Будет повод проложить по всей стране велодорожки, как нынче в Москве. А пересевшее на велосипеды и самокаты население оздоровится и сможет таки дотянуть до нынешнего пенсионного возраста!
Подробнее по теме здесь (сухим экономическим языком).
Forbes.ru
Неукротимое топливо. Водителей ждет взрывной рост цен на бензин
Заморозка цен на моторное топливо разоряет независимый бизнес, которому принадлежит 60% АЗС в России. Спешное латание дыр в топливной инфраструктуре чревато дефицитом, а значит — ростом цен. Фото